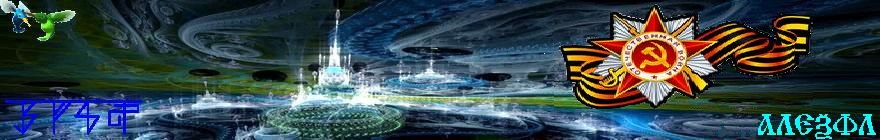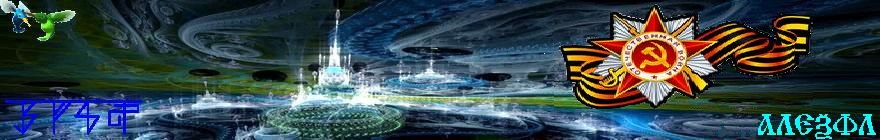Марк Твен. Собр. соч. в 8 томах. Том 7. - М.: Правда, 1980
Перевод А.Старцева
{355} - так обозначены ссылки на примечания.
С этими словами, к нашему великому огорчению, Сатана исчез. Мы позвали
людей и священника, но нашли Опперта уже при последнем издыхании. Все
остались равнодушны к его смерти, кроме собаки. Она жалобно скулила,
облизывая лицо мертвеца, и была безутешна. Ганса Опперта похоронили без
гроба и без отпущения грехов на том самом месте, где он лежал, - он был
нищим, у него не было ни единого друга, кроме этой собаки. Если бы мы пришли
часом раньше, священник мог бы еще спасти несчастную душу и отправить ее в
рай; теперь же она в аду и будет гореть в адском пламени. Обидно, что в этом
мире, где многие не знают, куда девать свое время, для этого бедняка не
нашлось одного часа, который решал, будет ли он блаженствовать или терпеть
вечные муки. Меня ужаснуло, что час времени значит так много в судьбе
человека! Я решил, что теперь ни за что на свете не стану тратить времени
зря. Сеппи совсем загрустил; он сказал, что гораздо лучше было бы стать
собакой и не заботиться о спасении своей души. Мы забрали собаку Ганса домой
и решили оставить ее у себя. На обратном пути Сеппи пришла в голову
счастливая мысль, которая подбодрила нас и сильно утешила. Сеппи сказал, что
раз пес простил своего хозяина, который причинил ему столько зла, быть
может, бог зачтет это Гансу Опперту за отпущение грехов, хотя с другой
стороны, поскольку прощение собаки было бесплатным, оно не могло иметь
настоящей церковной силы.
Вся следующая неделя прошла очень уныло. Сатана не являлся, ничего
примечательного не происходило, навестить Маргет мы не решались, потому что
ночи стояли лунные и кто-нибудь мог нас заметить. Но мы несколько раз
встречали Урсулу, когда она прогуливалась с кошечкой у реки, и узнали, что
все у Маргет благополучно. Урсула была в новом платье, лицо ее светилось
довольством. Четыре серебряных зильбергроша аккуратно появлялись каждое
утро, причем не было надобности тратить их на еду, вино и тому подобное. Все
съестное кошка доставляла бесплатно.
Теперь Маргет меньше страдала от заброшенности и одиночества; к тому же
ее навещал Вильгельм Мейдлинг. Каждый вечер она проводила час или два в
тюрьме со своим дядей и с помощью той же кошки значительно улучшила его
тюремный паек. Она запомнила Филиппа Траума, и ей хотелось, чтобы я привел
его снова. Да и Урсула тоже частенько вспоминала о нем и расспрашивала о его
дяде. Мы с трудом удерживались от смеха: я успел рассказать ребятам, какие
небылицы плел ей тогда Сатана. Урсула же ничем не могла поживиться от нас:
ведь мы ничего не могли рассказать ей о Сатане, даже если бы захотели.
Из болтовни Урсулы мы выяснили, что теперь, когда в доме есть деньги,
они с Маргет решили нанять слугу для черной работы и для посылок. Урсула
сообщила об этом, как о чем-то само собой разумеющемся, но видно было, что
бедняжка почти вне себя от тщеславия и гордости. Мы позабавились, глядя, как
старуха упивается своим новым величием, но когда узнали, кто их слуга, то
почувствовали беспокойство. При всей нашей молодости и легкомыслии в
некоторых жизненно важных вопросах мы разбирались не хуже взрослых. Их выбор
пал на парнишку по имени Готфрид Нарр, глуповатого и добродушного, о котором
трудно было сказать что-нибудь дурное. Но семья Нарров находилась под
подозрением, что было вполне естественно: всего полгода тому назад его бабку
сожгли на костре за ведовство. А ведь известно, что, когда в семье заведется
такая зараза, одним костром ее никогда не выжжешь. Отец Адольф постоянно
твердил нам об этом и велел покрепче приглядывать за грешным семейством.
Маргет и Урсула поступили очень неблагоразумно, что связались с Готфридом
Нарром. Охота на ведьм в наших краях никогда еще не была такой яростной, как
в последнее время. От одного упоминания о ведьмах нас охватывал страх,
леденящий душу. Да и как было тут не бояться - ведовство так
распространилось за последнее время. В старину ведьмами бывали только
старухи, а сейчас ловят ведьм какого угодно возраста, вплоть до восьми- и
девятилетних девчонок. Ни за кого нельзя поручиться, каждый может вдруг
оказаться слугой дьявола - мужчины, женщины, дети. В нашей деревне старались
вывести ведовство с корнем, но чем больше мы жгли ведьм, тем больше их
появлялось.
Как-то в женской школе, в десяти милях от нас, учительница увидела у
одной девочки на спине красные, воспаленные пятнышки. Она, конечно,
струхнула: не дьяволова ли это отметина? Девочка впала в отчаяние и умоляла
учительницу никому ничего не рассказывать; она уверяла, что это следы от
блошиных укусов. Дело пошло своим ходом, школьниц подвергли осмотру,
пятнышки оказались у всех пятидесяти девочек, но у одиннадцати из них
пятнышек было особенно много. Назначили тут же комиссию, которая и допросила
одиннадцать школьниц: они ни в чем не желали сознаться и только кричали:
"Мама!" Тогда их заперли поодиночке в темных камерах и посадили на десять
дней и десять ночей на хлеб и воду. К концу этого срока они перестали
плакать, сидели исхудавшие, с блуждающим взглядом, не принимали совсем пищи
и только что-то несвязно про себя бормотали. Потом одна призналась, что
часто летала верхом на метле на шабаш в сумрачное ущелье в горах, пила там
вино, неистовствовала, плясала там с ведьмами и даже с самим Нечистым и что
все они вели себя там непотребно, кощунствовали, поносили священников и
проклинали господа бога. Правда, девочка не смогла рассказать все это в
достаточно связной форме и не сумела вспомнить подробности; но зато члены
комиссии точно все знали, что ей следует помнить: у них был вопросник для
изобличения ведьм, составленный еще лет двести тому назад для подобных
комиссий самим римским папой. Они только спрашивали: "А это ты делала?" И
она отвечала: "Да!" и глядела на них бессмысленно. Когда остальные десять
девочек услышали, что их подруга созналась, они тоже решили сознаться и тоже
ответили: "Да!" Тогда их всех вместе сожгли на костре. Это было, конечно,
разумное решение. Все в деревне пошли смотреть, как их будут жечь. Я тоже
пошел. Но когда я узнал одну из них, веселую красивую девочку, с которой мы
часто вместе играли, когда я увидел ее прикованную к столбу и услышал
рыдания ее матери, которая, обнимая дочь и осыпая ее поцелуями, кричала:
"Господи, боже мой! Господи, боже!" - я не вынес этого ужаса и пошел прочь.
Когда сожгли бабушку Готфрида Нарра, стоял сильный мороз. Ее обвинили в
том, что она вылечивала людей от головной боли, массируя им затылок и шею.
Каждому было понятно, что она делала это с помощью дьявольских чар. Судьи
хотели расследовать дело, но старуха сказала, что в этом нет никакой нужды,
что она и так готова признать, что она ведьма. Тогда ее приговорили к
сожжению на рыночной площади утром на следующий день. Первым на площадь
утром пришел человек, который должен был все приготовить для казни и разжечь
костер. Потом тюремщик привел старуху, оставил ее на площади и отправился за
другой ведьмой. Родственники старухи не пришли с ней проститься, народ был
озлоблен и мог их обидеть или даже побить камнями. Я пришел на площадь и
угостил старуху яблоком. Она сидела на корточках у костра и грелась; губы ее
и сморщенные старческие руки посинели от холода. Рядом с нами стоял какой-то
чужой человек, - это был путешественник, гостивший у нас проездом. Он
ласково заговорил со старухой и, видя, что кроме меня, никого кругом нет,
выразил ей участие. Он спросил ее, подлинно ли она ведьма, и она ответила -
нет. Удивленный и еще более опечаленный, он воскликнул:
- Зачем же ты на себя наклепала?
- Я бедная старуха, - сказала она, - и живу только тем, что заработаю.
Что мне еще оставалось делать? Если я буду отрицать, что я ведьма, меня,
может быть, и отпустят. Но что со мной станется? Всем известно, что меня
судили за ведовство, и никто не захочет теперь у меня лечиться. Люди будут
травить меня собаками. Я погибну от голода. Пусть уж лучше меня сожгут, - по
крайней мере, скорый конец. Спасибо вам обоим, вы были добры ко мне.
Она пододвинулась ближе к костру и протянула руки, чтобы согреть их;
снежные хлопья тихо и ласково опускались на ее седую голову, которая
становилась все белее и белее. Собрались зрители, кто-то бросил в старуху
яйцом. Оно попало ей в глаз, разбилось и потекло по щеке. Послышался смех.
Я рассказал Сатане эту историю про бабушку Готфрида Нарра и про
одиннадцать девочек, но мой рассказ его, как видно, не тронул. Таков род
человеческий, сказал Сатана, и лучше совсем не касаться того, что творят
люди. Он повторил также, что видел сам, как создан был человек, и что он был
слеплен из грязи, а не из глины, - частью, во всяком случае. Я знал, какую
часть он имеет в виду, - ту, что именуется Нравственным чувством. Увидев,
что я угадал его мысль, он засмеялся. Потом подозвал вола, пасшегося
поблизости, ласково тронул его за холку и о чем-то с ним побеседовал.
- Вот возьми хоть вола, он не станет терзать малых детей одиночеством,
страхом и голодом, ввергать их в безумие, а потом жечь на костре ни за что.
Он не станет надрывать сердце бедной, ни в чем не повинной старухе и
доводить ее до того, что она побоится жить среди себе же подобных. Он не
станет издеваться над ней в ее смертный час. Вол не станет этого делать
потому, что он не заклеймен Нравственным чувством. Вол не знает зла и не
творит зла; он подобен ангелам в небе.
При всем своем обаянии Сатана был суров до жестокости, когда речь
заходила о человеческом роде. Он презирал людей и не находил в их защиту ни
единого слова.
Как я уже раньше сказал, мы считали, что Урсула поступила весьма
опрометчиво, наняв мальчика из семьи Нарров. И мы были правы: люди
вознегодовали, услышав об этом. Откуда взялись эти деньги на слугу,
рассуждали они, когда старухе с девушкой самим не хватает на хлеб? Еще
недавно Готфрида все сторонились, но теперь, чтобы удовлетворить свое
любопытство, люди стали заговаривать с ним и искать его общества. Готфрид
был очень доволен, по своей простоте он не видел ловушки и болтал, как
сорока.
- Откуда берутся деньги? - говорил он в ответ на вопросы. - Да у них
полно денег! Я получаю два зильбергроша в неделю, не считая харчей. Едят все
самое вкусное. У князя и то нет такого стола.
В воскресенье утром эту странную новость сообщили отцу Адольфу, когда
тот шел домой от мессы. Священник был сильно взволнован и сказал:
- Черт побери! Этим необходимо заняться.
Он решил, что здесь кроется колдовство, и велел своим прихожанам снова
втереться в доверие к Урсуле и Маргет и наблюдать за ними. Сделать это нужно
было с большой осторожностью, не вызывая никаких подозрений. Сначала никто
не хотел путаться в колдовские дела, но священник сказал, что все, кто
войдет в этот дом, будут находиться под его личной защитой, а если они
вдобавок прихватят с собой четки и малость святой воды, то с ними наверняка
не случится худого. После таких обещаний появилось много охотников
отправиться в гости к Маргет, а более завистливые и злые даже рвались туда,
чтобы поскорее выполнить поручение священника.
Бедняжка Маргет была вне себя от восторга, когда деревенские жители
снова начали с ней дружить. Она, простая душа, была очень довольна, что им с
Урсулой теперь получше живется, и не видела повода это скрывать. Она
радовалась каждому доброму слову вернувшихся к ней приятелей; ведь на свете
нет ничего тяжелее, чем попасть в презрение к друзьям.
Поскольку запрет был снят, мы тоже отправились к Маргет. Мы бывали
теперь у нее ежедневно вместе со своими родителями и со всеми соседями.
Кошечке пришлось туго. Она кормила теперь ораву гостей, причем угощала их
самыми редкими блюдами и поила такими винами, о которых они даже не
слыхивали, разве только от княжеских слуг. Сервировка стола была тоже
изысканной.
Иногда у Маргет бывали минуты сомнения, и она принималась расспрашивать
Урсулу об источнике их благополучия. Урсула ссылалась на руку всевышнего и
ни словом не упоминала о кошке. Маргет знала, конечно, что рука всевышнего
не оскудеет, но продолжала тревожиться, хоть и сама боялась признаться себе
в этом. Порой ей являлась в голову мысль о колдовских чарах, но она
отвергала ее: ведь благополучие ее и Урсулы началось еще до того, как они
взяли на службу Готфрида Нарра, а Урсула благочестива и так ненавидит всякое
ведовство. Постепенно Маргет уверилась, что дом их находится под
покровительством провидения. Кошечка же помалкивала и с течением времени
становилась все более искусной и опытной домоправительницей.
В любом обществе, малом или большом, всегда найдется сколько-то
добронамеренных по своей природе людей, которых не так-то просто подбить на
дурной поступок; разве только если поставить всерьез под угрозу их
собственное благополучие или сильно их запугать еще каким-нибудь способом. И
у нас в Эзельдорфе были такие люди, и в обычное время они оказывали
смягчающее влияние на нравы. Но сейчас время было суровое - шла охота на
ведьм, - и во всей общине не осталось уже ни единого человека с искрой
жалости и благородства в душе. То, что творилось в доме у Маргет, попахивало
колдовством. Люди страшились, и страх помрачал им рассудок. Конечно,
встречались еще такие, что втайне жалели Маргет и Урсулу, впутавшихся в это
страшное дело; но эти люди молчали, боясь пропасть ни за что ни про что. Так
оно шло, и не было человека, который предупредил бы беспечную девушку и
глупую старуху о нависшей над ними беде. Мы тоже не раз собирались, но нам
не хватало храбрости. Мы боялись отца Адольфа. Что пользы себя обманывать?
Мы были трусами и не могли решиться на добрый поступок, потому что он грозил
нам опасностью. Признаваться друг другу в низости нам не хотелось, и мы
поступали так, как поступают все при таких обстоятельствах, - не касались
больной темы совсем. Но я-то отлично знал, что Сеппи и Николаус не меньше
моего чувствуют себя подлецами, когда сидят за столом у Маргет вместе с
толпой соглядатаев, дружески с ней болтают, похваливают угощение, смотрят на
ее счастливое личико и ни словом не намекнут, что она идет к гибели. А
она-то так рада, так счастлива, так горда, что снова с друзьями. Между тем
гости зыркали по сторонам и передавали каждое ее слово отцу Адольфу.
Отец Адольф никак не мог взять в толк: что же такое происходит в доме у
Маргет? Кто-то там занят волшбой, но кто же? Ни Маргет, ни Урсулу, ни
Готфрида никто ни разу не видел за колдовскими занятиями, и тем не менее
вина и изысканные лакомства не сходили со стола в этом доме, и каждого
угощали всем, чего он только захочет. Что при помощи колдовских чар можно
добыть любое угощение - понятно, но это была, как видно, волшба совершенно
особая, без заклинаний и без заговоров, без призраков, молний и
землетрясений - иными словами, нечто новое и неслыханное. О подобной волшбе
в книгах ничего не найти. То, что создано чарами, имеет, как всем известно,
лишь призрачное существование. Когда чары перестают действовать, золото
превращается в прах, а пища распадается и исчезает. Здесь же все было иначе.
Соглядатаи отца Адольфа доставляли ему образчики угощений из дома Маргет. Он
творил над ними молитву, но без малейшего толка. Продукты оставались
съедобными. Они теряли свежесть лишь по прошествии времени, нисколько не
отличаясь в том от продуктов, приобретенных на рынке.
Отец Адольф был озадачен и даже обескуражен. То, что ему удалось
выяснить до сих пор, заставляло его втайне склоняться к мысли, что
колдовства нет. Но полной ясности не было. Наконец он нашел способ проверить
свои сомнения: если ему удастся твердо установить, что все эти яства,
которыми Маргет кормит своих гостей, не вносятся в дом извне, значит - в
доме волшба.
ГЛАВА VII
Маргет решила устроить званый обед и позвала к себе сорок гостей. До
торжественного дня оставалась неделя. Это был подходящий случай для отца
Адольфа. Дом Маргет стоял на отшибе, и за ним легко было следить. Все семь
дней и ночей дом находился под наблюдением. Было установлено, что Урсула и
Готфрид выходили из дома и возвращались домой как обычно, но ни они и никто
другой ничего в дом не вносили. Следовательно, никаких запасов для сорока
гостей куплено не было. Если хозяева все же собираются их кормить, значит,
они рассчитывают добыть свои яства, не выходя из дома. Правда, Маргет по
вечерам уходила куда-то одна с корзинкой в руках. Но шпионы отца Адольфа все
утверждали, что, когда она возвращалась, корзинка была пустой.
Гости явились в полдень и заполнили весь дом. Пришел и отец Адольф,
хоть его и не приглашали. Ему уже донесли, что ни с парадного, ни с черного
хода в дом Маргет не вносили никаких свертков. Войдя же, он убедился, что
гости едят и пьют, и празднество идет полным ходом. Вдобавок, как он
приметил, многие блюда, которыми кормили гостей, были так свежи, словно
только что изготовлены. Свежи были и фрукты, не только местные, наши, но и
те, что привозят из дальних стран. Сомнений больше не оставалось - тут
колдовство! Правда, не было ни призраков, ни заклинаний, ни громовых ударов.
Что же, значит, здесь колдовство особого рода, невиданное. Здесь действует
колдовство небывалое, колдовство изумительной силы, и ему,
священнослужителю, суждено раскрыть эту тайну. Весть о его подвиге
пронесется по всему миру до самых дальних пределов и потрясет сердца, он
станет известен каждому, имя его засияет в веках. Подумать только, как ему
повезло! При одной мысли об этом у него голова шла кругом.
Все расступились, когда появился отец Адольф. Маргет любезно пригласила
его принять участие в пиршестве. Урсула велела Готфриду придвинуть отдельный
столик, накрыла его для священника и спросила, чего он желает отведать.
- Угостите меня по вашему выбору, - сказал он.
Двое слуг уставили стол яствами и подали две бутылки вина - одну
красного и одну белого. Священник налил немного воды, освятил ее, покропил
все, что было, вслед за тем прочитал молитву. Потом он наполнил свой кубок
красным вином, осушил его разом, налил другой и с волчьим аппетитом принялся
за еду.
Я не думал, что придет Сатана, - мы не встречались уже неделю, - но вот
он явился среди гостей. Я еще не успел увидеть его, как почувствовал, что он
здесь. Он из винился, что пришел неприглашенным, сказал, что заглянул просто
так, на минутку Маргет стала уговаривать его остаться, он поблагодарил и
остался. Она повела его к столу, представляя своим подругам, Вильгельму
Меидлингу; некоторым из почетных гостей.
Послышался шепот:
- Это молодой незнакомец, о котором столько все говорят.
- Его очень редко увидишь. Всегда в разъездах.
- Какой красавец! Как его звать?
- Филипп Траум.
- Подходящее имя! (Вы ведь знаете, "Траум" по-немецки значит "мечта".)
- А чем он занимается?
- Говорят, готовится стать священником.
- С такой внешностью он далеко пойдет; не удивлюсь, если увижу его
кардиналом.
- А откуда он?
- Говорят, откуда-то из южных тропических стран, у него там богатый
дядя.
И далее в том же роде.
Он всем сразу понравился, всем захотелось познакомиться, побеседовать с
ним. И вдруг все с удивлением почувствовали, как легко им стало дышать,
словно их овевал ветерок, но причину этого они не могли угадать. Ведь солнце
палило все так же с раскаленного синего неба.
Отец Адольф осушил второй кубок и налил себе третий. Ставя бутылку на
место, он случайно опрокинул ее. Вино потекло на скатерть. Он быстро поднял
бутылку и стал разглядывать ее на свет, восклицая: "Какая жалость!
Королевский напиток!" Тут лицо его вдруг засветилось торжеством, и он
крикнул:
- Принесите чашу! Живее!
Ему принесли огромную чашу вместимостью в четыре кварты. Он поднял над
нею свою двухпинтовую бутылку и стал лить в чашу вино. Алая жидкость,
булькая и бурля, полилась в белую чашу, поднимаясь все выше и выше. Все
глядели, затаив дыхание. Чаша наполнилась до краев.
- Смотрите, - сказал священник, поднимая бутылку с вином против света,
- бутылка полна по-прежнему.
В этот миг я поднял глаза на Сатану - он внезапно исчез. Отец Адольф
поднялся весь багровый, дрожа от волнения, осенил себя крестным знаменем и
что было голоса возопил:
- Да будет проклят сей дом!
Толпа гостей с плачем и воплями ринулась к двери.
- Да будет сей дом...
Тут я увидел, как Сатана - или, точнее, его бесплотная тень - вошел в
тело отца Адольфа и священник, подняв руку, крикнул (голос был бесспорно
его):
- Погодите! Остановитесь!
Все остановились.
- Принесите воронку!
Перепуганная, трепещущая Урсула принесла тотчас воронку, и священник
поднял огромную чашу и стал лить вино обратно в бутылку. Народ глядел в
изумлении: все знали, что бутылка и так полна. Перелив содержимое чаши в
бутылку, отец Адольф ухмыльнулся с победным видом, а потом, хихикнув,
сказал:
- Это сущие пустяки для меня, мелкая дробь.
С испуганным воплем: "Оборотень! Нечистая сила!" - толпа вновь ринулась
к двери, и вскоре в доме не осталось никого из гостей, кроме нас и
Вильгельма Мейдлинга. Нам троим было ясно, что произошло, но мы ни с кем не
могли поделиться. Молодец, Сатана! Если бы он не вмешался, беды бы не
миновать.
Маргет сидела бледная, в слезах. Мейдлинг и Урсула словно лишились
речи. Хуже всех себя чувствовал Готфрид Нарр, от страха он едва стоял на
ногах. Он был из семьи колдунов, даже малейшее подозрение в волшбе было для
него гибельным. В комнату вошла кошка Агнесса с невинным и благочестивейшим
видом и подошла к старухе Урсуле, чтобы та ее приласкала. Урсула испуганно
отстранилась, но постаралась сделать это без грубости; она понимала, что
ссориться с этакой кошкой неблагоразумно. Мы же трое стали ласкать Агнессу.
Раз Сатана ей покровительствовал, значит, это была славная кошечка, - в
других рекомендациях мы не нуждались. Сатана любил все живые существа, не
обремененные Нравственным чувством.
Выбравшись из дому, перепуганные гости продолжали свое паническое
бегство по улице, сообщая всем встречным, что священник стал оборотнем; а
после рассеялись с такими отчаянными воплями, стонами и рыданиями, что
подняли на ноги всю деревню. Люди выскакивали из домов, чтобы узнать, что
приключилось, и, в свою очередь, присоединялись к взволнованной, бурной
толпе. Когда появился отец Адольф, бормотавший без устали что-то свое под
нос, толпа расступилась, подобно водам Чермного моря{397}, и дала ему путь.
Толпа сомкнулась за ним, заполняя проход, и каждый смотрел ему вслед
недвижным взглядом, учащенно дыша и замирая от ужаса. Две или три женщины
тут же лишились чувств. Когда он отдалился, люди поосмелели и последовали за
ним на почтительном расстоянии, взволнованно споря о том, что же именно
произошло на пиру. Установив кое-какие факты, они пересказывали их каждый
своим соседям, внося посильные добавления и варианты. В результате чаша с
вином превратилась в бочку, а бутылка, вместив эту бочку, так и осталась
пустой.
Когда священник вышел на площадь, он направился прямо к жонглеру,
который, расхаживая по рынку в своем пестром костюме, играл тремя медными
шарами, попеременно взлетавшими ввысь. Священник отобрал у жонглера шары и,
обернувшись к подошедшей толпе, сказал:
- Этот жалкий фигляр не знает своего ремесла. Сейчас вы увидите, как
работает мастер!
Он подбросил один шар, другой, потом третий, и они закружились в
воздухе, образовав изящно вытянутый кверху блестящий овал. Еще шар, еще и
еще - никто не видел, откуда он брал их, еще, еще и еще - овал все выше и
выше, движения рук все быстрее и быстрее, пальцев не различить, и вот в
воздухе кружится целая сотня шаров, - как утверждали те, кто их подсчитал.
Сверкающий овал поднялся кверху на двадцать футов, это было изумительное,
редкое зрелище. Сложив на груди руки, священник велел шарам кружиться без
его помощи, и они закружились сами. Потом он сказал:
- Ну, теперь хватит!
Овал рассыпался, медные шары упали на землю, покатились во все стороны.
Люди отскакивали от них, боясь к ним притронуться. Священник презрительно
захохотал и стал поносить зрителей, называя их трусами и старыми бабами.
Оглядевшись по сторонам, он увидел протянутый через площадь канат и
сказал, что всегда жалел простофиль, которые тратят деньги на грубых
клоунов, профанирующих высокое искусство канатоходца. Сейчас он покажет им,
что такое искусство. Одним прыжком он взлетел на канат и, прикрыв глаза
ладонями, проскакал по нему на одной ноге до конца, а потом, вернувшись тем
же путем, выполнил двадцать семь опаснейших сальто-мортале, сперва вперед и
потом назад.
Толпа зашумела. Священнику не подобало вести себя так легкомысленно. Но
отца Адольфа этот шум ничуть не смутил, и он продолжал представление с
чрезвычайным проворством. Закончив свои кунштюки, он ловко спрыгнул на
землю, зашагал прочь и вскоре, свернув за угол, вовсе исчез из виду. Тесно
сгрудившись, бледные и безмолвные от волнения зрители перевели дух и
воззрились один на другого, как бы спрашивая: "Да полно, было ли это? Ну а
вы - вы это видели? Или мне снился сон?"
Потом послышался сдержанный говор. По двое, по трое люди брели домой.
Они перешептывались, хватали друг друга за локоть, жестикулировали, -
словом, вели себя так, как бывает при важных особенных обстоятельствах.
Мы тоже шли следом за своими отцами, прислушиваясь к их разговору.
Когда они сели за стол у нас дома, мы пристроились рядом. Отцы наши были в
унынии и считали, что этот взрыв колдовства принесет несчастье деревне.
- Ведь еще не было случая, чтобы они покусились на священнослужителя, -
сказал мой отец. - Я и сейчас не пойму, как только они осмелились. У него на
груди висело распятье. Правильно я говорю?
- Конечно, - подтвердили собеседники. - Мы видели его собственными
глазами.
- Плохо дело, друзья, очень плохо. Бог хранил нас все это время. Но
сейчас он оставил нас.
Слушатели задрожали, как в лихорадке, и повторили:
- Бог оставил нас. Он нас оставил.
- Увы, это так, - сказал отец Сеппи Вольмейера. - Нам суждено
погибнуть.
- Когда люди поймут, что спасения нет, - сказал судья, отец Николауса,
- отчаяние отнимет у них веру и волю. Подходят страшные времена.
Он глубоко вздохнул, а Вольмейер добавил уныло:
- По стране побежит слух, что на нашу деревню пал гнев господень, и
никто не приедет к нам больше. "Золотой олень" перестанет приносить мне
доход.
- Да, сосед, - сказал мой отец, - все мы потеряем доброе имя, а иные
лишатся и денег. Но будет еще страшнее, если нас...
- Что такое?
- Если нас и это постигнет - тогда конец.
- Что? Что? Ради господа бога!..
- Папское отлучение{399}!
Собеседники замерли, словно сраженные громом. Казалось, они лишатся
чувств от отчаяния. Но страх перед грозным бедствием словно вернул им силы.
И они стали раздумывать, как его избежать.
Они спорили так и эдак, притом знали, что есть только один верный
выход, но боялись к нему подступиться. И все же пришлось. Отца Адольфа
следовало предать трибуналу по борьбе с ведовством, и кому-то из них
надлежало сообщить суду об увиденном; сам суд, понятное дело, не сдвинется с
места, раз речь пойдет о священнике. А они, между тем, как и все в нашей
деревне, опасались не столько наглого дьявола, вошедшего в тело священника,
сколько отца Адольфа как такового. Он узнает от членов суда, кто донес на
него, и доносчику будет несладко.
Положение казалось безвыходным. Если они донесут и священник отвертится
от костра, он пустит их по миру. А если они промолчат, на них падет папская
кара.
Так тянулось до самого вечера. Убедившись, что выхода нет, они
расстались с тяжелым сердцем, обуреваемые грустным предчувствием.
Пока гости прощались с моим отцом, я тихо выскользнул из дому и побежал
к Маргет - узнать, как там у них обстоят дела. Никто из прохожих на улице не
ответил на мой поклон. В другое время я удивился бы, но не сейчас. Люди были
так испуганы и расстроены, что их легко было счесть за помешанных. Бледные,
с осунувшимися лицами, бродили они по деревне, словно лунатики, широко
раскрыв невидящие глаза, беззвучно шепча губами и судорожно сжимая и
разжимая свои кулаки.
В доме у Маргет царило отчаяние. Она и Вильгельм Мейдлинг сидели вдвоем
в молчании, даже не взявшись за руки, как это было у них в обычае. Оба были
мрачны, глаза у Маргет покраснели от слез. Она сказала:
- Я умоляла его покинуть нас и спасти свою жизнь. Я не хочу стать его
убийцей. Наш дом проклят, и всем, кто живет в нем, угрожает костер. Но он не
хочет уйти. Он говорит, что умрет вместе с нами.
Вильгельм повторил, что никуда не уйдет. Раз Маргет грозит опасность,
он будет здесь рядом с ней до конца. Маргет снова залилась слезами. Это было
грустное зрелище, и я пожалел, что не остался дома. Раздался стук, вошел
Сатана, красивый и полный сил, весь искрящийся веселостью, как молодое вино,
и сразу переменил у нас настроение. Он ни словом не упомянул ни о том, что
произошло за обедом, ни о страхах, терзавших деревню, а стал оживленно
болтать о разных безделицах. А потом он перевел разговор на музыку. Это был
ловкий ход, и Маргет, позабыв о всех горестях, тотчас оживилась и приняла
участие в беседе. Ей еще не приходилось встречать никого, кто рассуждал бы о
музыке с таким пониманием, и она была совершенно очарована собеседником.
Маргет не умела скрывать свои чувства, личико ее просияло, и Вильгельм
Мейдлинг почувствовал себя немного задетым. Сатана стал говорить о поэзии,
отлично прочитал нам несколько стихотворений, и Маргет снова пришла в
восторг. Мейдлинг опять почувствовал себя задетым. Маргет заметила перемену
в его лице и упрекнула себя за легкомыслие...
[...] На другой день только и толков было, что о случившемся, но -
потихоньку. Трибунал по борьбе с ведовством подвергся суровой критике.
Почему они не притянут отца Адольфа? Если бы дело шло о какой-нибудь
беззащитной старухе, ей бы так не сошли эти сатанинские штуки с бутылкой
вина и с бронзовыми шарами. Все роптали, но шепотом и не забывали добавить:
"Я-то что? Я молчу. На меня не ссылайтесь". Они поносили судей, оробевших
перед священником, но притом забывали бранить за трусость себя - они ведь
тоже боялись донести на отца Адольфа. Еще они упускали, что, клеймя трибунал
за то, что он судит одних беззащитных старух, они клеймили себя - и они были
храбрыми только перед старухами. Будь сейчас Сатана, он вдоволь бы
посмеялся. Он сказал бы: "Таковы все вы, люди".
[...] Я заснул в этот вечер под славную музыку: капли дождя барабанили
в ставни, вдалеке погромыхивал гром. Ночью пришел Сатана, разбудил меня и
сказал:
- Вставай! Куда мы отправимся?
- С тобой - куда хочешь!
Меня ослепил солнечный свет. Сатана сказал:
- Мы в Китае.
Ничего подобного я не ждал и был счастлив и горд, что странствую в этих
дальних краях. Так далеко никто из нашей деревни не заезжал, даже сам
Бартель Шперлинг, который воображает себя величайшим из путешественников.
Больше получаса мы парили над Небесной империей и осмотрели ее от края до
края. Это было удивительное зрелище, многое было прекрасно, но многое
ужасало. Я мог бы порассказать... впрочем, я сделаю это после и тогда
объясню, почему Сатана выбрал Китай для нашего путешествия. Сейчас это мне
помешает. Насытившись зрелищем, мы прервали полет.
Мы сидели на вершине горы. Под нами расстилался огромный край. Горы,
ущелья, долины, луга, реки нежились в солнечном сиянии; в отдалении синело
море. Это был тихий мирный пейзаж, радующий своей красотой и покоящий душу.
Насколько легче было бы жить в этом мире, если бы мы могли по желанию,
вдруг, перенестись в такое блаженное место. Перемена - она гонит прочь
усталость тела и духа, словно перекидываешь тяжесть забот с одного плеча на
другое.
Мне пришла в голову мысль потолковать по душам с Сатаной, уговорить его
стать лучше, добрее. Я напомнил ему о том, что он натворил, и просил его
впредь не действовать столь опрометчиво; не губить людей зря. Я не винил
его, только просил, чтобы он перед тем, как решиться на что-нибудь, помедлил
и чуть поразмыслил. Ведь если он будет действовать не столь легкомысленно,
не наобум, будет меньше несчастий. Сатана нисколько не был задет моей
прямотой, но видно было, что я удивил и рассмешил его. Он сказал:
- Тебе кажется, что я действую наобум? Я никогда так не действую. Ты
хочешь, чтобы я медлил и думал о том, к чему приведет мой поступок? Зачем? Я
и так точно знаю, к чему он приведет.
- Почему же ты так поступаешь?
- Изволь, я отвечу тебе, а ты постарайся понять, если сумеешь... Ты и
тебе подобные - неповторимые в своем роде создания. Каждый человек - это
машина для страдания и для радостей. Два механизма соединены одной сложной
системой и действуют на основе взаимной связи. Едва успеет первый механизм
зарегистрировать радость, второй готовит вам боль - несчастье. У большинства
людей жизнь строится так, что горя и радостей приходится поровну. Там, где
такого равновесия нет, преобладает несчастье. Счастье - никогда. Встречаются
люди, устроенные так, что вся их жизнь подчинена механизму страданий. Такой
человек от рождения и до самой смерти совсем не ведает счастья. Все служит
для него источником боли, что он ни делает, приносит ему страдания. Ты,
наверно, видел таких людей. Жизнь для них - гибельный дар. Порой за
единственный час наслаждения человек платит годами страдания - так он
устроен. Или ты не знаешь об этом? Нужны примеры? Изволь, я тебе приведу.
Что же до жителей вашей деревни, то они для меня попросту не существуют. Ты,
наверно, это заметил?
Я не хотел быть с ним резким и ответил, что да, иногда мне так кажется.
- Так вот, повторяю: они для меня не существуют. И это вполне
естественно. Разница между нами слишком обширна. Начать с того, что они
лишены разума.
- Лишены разума?
- Даже подобия разума. Когда-нибудь я познакомлю тебя с тем, что
человек зовет своим разумом, разберу по частям этот хлам, и ты увидишь,
насколько я прав. У меня нет с людьми ничего общего, ни малейшей точки
соприкосновения. Переживания людей пусты и ничтожны, таковы же и их
претензии, их честолюбие. Вся их вздорная краткая жизнь - только вздох,
смешок, гаснущее на ветру пламя. Они вовсе лишены чувства, - пресловутое
Нравственное чувство не в счет. Сейчас я поясню тебе мою мысль на примере.
Видишь красного паучка, он не крупнее булавочной головки. Как ты думаешь,
может ли слон питать к нему интерес, беспокоиться, счастлив этот паук или
нет, богат или беден, любит ли паука невеста, здорова ли его матушка,
пользуется ли он должным успехом в обществе, справится ли он со своими
врагами, поддержат ли его в несчастье друзья, оправдаются ли его мечты о
карьере, преуспеет ли он на политическом поприще, встретит ли он свой конец
в лоне семьи, или погибнет, презираемый всеми в одиночестве, на чужбине?
Слон никогда не сумеет проникнуться этими интересами, они для него не
существуют, он не властен сузить себя до их жалких размеров. Человек для
меня то же, что этот красный паук для слона. Слон ничего не имеет против
него, он с трудом его различает. Я ничего не имею против людей. Слон
равнодушен к красному пауку. Я равнодушен к людям. Слон не возьмет на себя
труда вредить пауку, - напротив, если приметит его, то, может статься, в
чем-нибудь и посодействует, попутно, разумеется, со своими делами и между
прочим. Я не раз помогал людям и никогда не стремился вредить им. Слон живет
сто лет, красный паучок - один день. Разница между ними в физической силе, в
умственной одаренности и в благородстве чувств может быть выражена разве
только в астрономическом приближении. Добавлю, что расстояние между мной и
людьми во всем этом, как и в другом, неизмеримо шире, чем расстояние,
отделяющее слона от красного паучка. Разум человека топорен. Уныло, с
натугой он сопоставляет элементарные факты, чтобы сделать какой-то вывод -
не станем уже говорить, каков этот вывод! Мой разум творит! Подумай, что это
значит! Мой разум творит мгновенно, творит все, что ни пожелает, творит из
ничего. Творит твердое тело, жидкость или же цвет - любое, что мне
захочется, все, что я пожелаю, - из пустоты, из того, что зовется движением
мысли. Человек находит шелковое волокно, изобретает машину, прядущую нить,
задумывает рисунок, трудится в течение многих недель, вышивая его шелковой
нитью на ткани. Мне довольно представить себе это сразу, и вот гобелен предо
мной, я сотворил его.
Я вызываю мысленно к жизни поэму, музыкальное произведение, партию в
шахматы - все, что угодно, - вот я сотворил их! Мой разум - это разум
бессмертного существа, для которого нет преград. Мой взор проникает всюду, я
вижу во тьме, скала для меня прозрачна. Мне не нужно перелистывать книгу, я
постигаю заключенное в ней содержание одним только взглядом, сквозь
переплет; через миллионы лет я все еще буду помнить его наизусть и знать,
что на какой странице написано. Я вижу, что думает человек, птица, рыба,
букашка; в природе нет ничего скрытого от меня. Я проникаю в мысли ученого и
схватываю все то, что он накопил за семьдесят лет. Он может забыть это, и он
позабудет, но я буду помнить вечно.
Сейчас я читаю твои мысли и вижу, что ты понял меня. Что же дальше?
Допустим, в какой-то момент слону удалось разглядеть паучка, и он ему
посочувствовал. Полюбить его слон не может; любить можно только тех, кто
твоей же породы, равных. Любовь ангела возвышенна и божественна - человек не
в силах даже отдаленно представить ее себе. Ангел может любить ангела.
Человек, на которого падет любовь ангела, будет испепелен.
[...] Мы не питаем любви к людям, мы снисходительно равнодушны к ним,
иной раз случается так, что они вызывают нашу симпатию. Ты мне нравишься, ты
и твои друзья, мне нравится отец Питер. Ради вас я покровительствую жителям
вашей деревни.
Он заметил, что я принял его последние слова за насмешку, и решил
пояснить их.
- Я приношу добро жителям вашей деревни, хотя с первого взгляда может
казаться, что я им врежу. Люди не различают, что идет им на пользу и что -
во вред. Они не разбираются в этом потому, что не знают будущего. То, что я
делаю для жителей вашей деревни, даст в свое время плоды; иные из этих
плодов вы вкусите сами, иные предназначены для будущих поколений. Никто
никогда не узнает, что я изменил течение жизни этих людей, но это именно
так. Есть игра, ты не раз играл в нее со своими друзьями. Вы ставите кирпичи
близко один от другого. Вы толкаете первый кирпич, он падает, валит
соседний, тот сбивает еще один и так далее, и так далее, пока все кирпичи не
лежат на земле. Такова и жизнь человеческая. В младенчестве человек толкает
первый кирпич. Дальнейшее следует с железной неотвратимостью. Если бы ты
читал будущее, как читаю его я, то увидел бы, как и я, все, что случится
далее. Порядок человеческой жизни предопределяется первым толчком. Никаких
неожиданностей в ней нет и не будет, потому что каждый новый толчок зависит
от предыдущего. Тот, кому доступно подобное видение, прозревает весь ход
человеческой жизни от колыбели до самой могилы.
- Разве бог не управляет человеческой жизнью?
- Нет, она предопределена обстоятельствами и средой. Первый поступок
влечет за собой второй и так далее. Представим себе на минуту, что из
чьей-то жизни выпал один из таких неизбежных поступков, самый пустячный.
Мальчик должен был в обусловленный день, в обусловленный час, в
обусловленную минуту и даже секунду, - может быть, речь идет о доле секунды,
- замахнуться, словить муху; он это не сделал. Тогда, начиная от этой
секунды, его жизнь должна коренным образом перемениться. До самой его
кончины она потечет теперь не по тому руслу, которое предречено этим детским
поступком, но по другому. Если бы он замахнулся, словил муху, это, быть
может, привело бы его к королевскому трону. Он этого не сделал - и вот его
ждут бедствия и нищета. Возьмем для примера Колумба. Стоило, скажем, ему в
детские годы утратить крохотное, ничтожное звенышко в цепи своих поступков,
начатых и обусловленных первым его поступком, и вся его жизнь сложилась бы
по-иному. Он стал бы священником в итальянской деревне, умер бы в
неизвестности, и открытие Америки было бы тем отсрочено на сто или двести
лет. Я знаю это наверное. Не сверши Колумб хоть единого из миллиарда
положенных ему в его жизни поступков, и судьба его переменилась бы. Я
рассмотрел миллиард жизненных линий Колумба, и только в одной из них
значится открытие Америки. Люди не понимают, что любой их поступок, крупный
или ничтожный, одинаково важен в их жизни. Словить муху, которую вам словить
предназначено, не менее важно для вашей дальнейшей судьбы, чем, скажем...
- Открыть материк?
- Да, именно так. Конечно, практически человеку не дано уйти от
поступка, который ему предназначен; этого никогда не бывает. Когда человеку
кажется, будто он принимает решение, как ему поступить, так ли, иначе, то
колебания эти входят звеном в ту же цепь, и они обусловлены. Человек не
может порвать свою цепь. Это исключено. Скажу тебе больше, - если он и
задастся подобным намерением, то и оно будет звеном той же цепи; знай, что
оно с неизбежностью зародилось у него в определенный момент, относящийся еще
к его раннему детству.
Я был подавлен картиной, которую набросал передо мной Сатана.
- Человек осужден на пожизненное заключение, - сказал я грустно, - и не
может вырваться из тюрьмы.
- Да, он не в силах уйти от первого же поступка, совершенного им в
младенчестве. Но я властен освободить его.
Я поглядел на Сатану вопросительно.
- Я уже изменил судьбу нескольких жителей вашей деревни.
Я решил было поблагодарить Сатану, но потом подумал, что благодарить
пока не за что, и промолчал.
- Я хочу переменить еще несколько судеб. Ты знаешь маленькую Лизу
Брандт?
- Конечно, все ее знают. Моя мама всегда говорит, что такой красивой и
ласковой девочки еще не рождалось на свет. Она говорит, что Лиза, когда
подрастет, станет гордостью нашей деревни и все будут так же любить ее, как
и сейчас.
- Я изменю судьбу этой девочки.
- К лучшему? - спросил я не без тревоги.
- Да. Я переменю также судьбу Николауса.
Тут я обрадовался по-настоящему и сказал:
- За него-то просить не надо. Для Николауса ты постараешься.
- Разумеется.
Фантазия у меня заработала, и я стал рисовать себе будущий путь Ника:
вот он генерал и гофмейстер двора. Тут я заметил, что Сатана молча ждет,
когда я закончу свои мечтания, и мне стало неловко, что он прочитал мои
наивные мысли. Я ждал насмешек, но он продолжал свою речь:
- Нику суждено прожить шестьдесят два года.
- Отлично! - сказал я.
- Лизе - тридцать шесть. Но, как я уже сказал, я решил изменить линию
их жизни. Через две минуты и пятнадцать секунд Николаус проснется и услышит,
что дождь хлещет в окно. По прежнему плану жизни он должен был повернуться и
снова уснуть. Но я заставлю его встать и закрыть окно. Эта пустячная разница
переменит всю его жизнь. Он утром проснется двумя минутами позже, чем
следовало, и ничто из того, что должно было с ним случиться, уже не
случится.
Сатана вынул часы, поглядел на них и сказал:
- Николаус встал с постели и затворил окно. Прежний ход его жизни
прервался, начался новый. Это не останется без важных последствий.
Слова Сатаны звучали таинственно, по спине у меня побежали мурашки.
- То, что случилось сейчас, переменит события, которым назначено было
случиться через двенадцать дней. Николаусу было назначено спасти Лизу. Он
прибежал бы к реке к четырем минутам одиннадцатого - секунда в секунду, - и
тогда он легко бы вытащил девочку из воды, плыть ему было бы близко. Но
теперь он на несколько секунд опоздает. Лизу унесет течением на глубокое
место, и, несмотря на все усилия Николауса, оба они утонут.
- Сатана, дорогой Сатана! - вскричал я, заливаясь слезами. - Спаси их!
Не надо этого! Я не перенесу смерти Ника. Он мой любимый товарищ, мой друг.
Что станется с матерью Лизы? - Прильнув к нему, я молил его, но Сатана
остался спокойным. Он усадил меня на прежнее место и попросил выслушать его
до конца.
- Я нарушил ход жизни Николауса, и этим нарушил ход жизни Лизы. Если бы
я не вмешался, Николаус спас бы ее, но захворал бы от купания в холодной
воде. Простуда перешла бы в одну из тех страшных горячек, которым подвержен
ваш род, и последствия были бы ужасающи. Николаус лежал бы сорок шесть лет,
не вставая с постели, без движения, без слуха, без речи, с одной лишь мечтой
- умереть. Хочешь ли ты, чтобы я отменил то, что свершилось?
- Нет, нет, ни за что! Пожалей его! Пусть будет так, как ты сделал!
- Ты прав. Лучше, чем я сейчас сделал, сделать нельзя. Я перебрал
миллиард жизненных линий для Николауса, но все они были ужасны, полны
несчастий и горя. Если бы я не вмешался, он спас бы, конечно, Лизу, потратил
бы на это не более шести минут и получил бы в награду за свой геройский
поступок сорок шесть лет мук и страданий. Когда я тебе говорил, что
поступок, который приносит час радости и довольства собой, нередко
вознаграждается годами страданий, я думал о Николаусе.
Мысленно я задал вопрос, от каких же бед должна спасти Лизу столь
ранняя смерть?
Сатана тут же ответил:
- Ей предстояло мучиться десять лет, медленно оправляясь от случайно
полученного увечья. После чего ее ждали девятнадцать лет позорной, грязной
преступной жизни и смерть от руки палача. Через двенадцать дней ее больше не
будет. Ее мать отдала бы, я думаю, все на свете, чтобы спасти свою Лизу.
Разве я не добрей ее матери?
- О да! И добрей и мудрей.
- Приближается суд над отцом Питером. Он будет оправдан. Суд получит
твердые доказательства его невиновности.
- Но каким же образом? Ты в этом уверен?
- Я знаю наверняка. Его доброе имя будет опять восстановлено, и остаток
жизни он проживет счастливо.
- Ты прав. Если его доброе имя будет опять восстановлено, он будет,
конечно, счастлив.
- Он будет счастлив, но по другой причине. Как только суд вынесет ему
оправдательный приговор, я переменю линию его жизни, и ради его же блага. Он
никогда не узнает, что его доброе имя опять восстановлено.
Я робко подумал, что хорошо бы поточнее узнать, что именно произойдет с
отцом Питером, но Сатана не обратил на мои мысли никакого внимания. Потом я
подумал об отце Адольфе. Он-то куда же девался?
- Я отправил его на Луну, - ответил Сатана, как-то странно посмеиваясь.
- На неосвещенную сторону Луны. Он никак не может понять, куда он попал, и
ему там не так уж весело, но место для него подходящее. Скоро он мне
понадобится. Тогда я доставлю его назад и еще раз в него воплощусь. У
священника впереди долгая жизнь, исполненная преступлений и мерзостей. Но я
не питаю к нему зла и даже готов услужить ему. Пожалуй, я переменю линию его
жизни, и его сожгут на костре.
У Сатаны были самые странные представления о том, как оказать человеку
услугу. Но он ведь был ангел, разве ангелу что-нибудь растолкуешь! Ангелы
ничем не похожи на нас и ни во что нас не ставят. Мы кажемся им чудаками. И
к чему Сатана закинул отца Адольфа в такую дальнюю даль? С тем же успехом он
мог держать его под рукой где-нибудь неподалеку, в Германии.
- В такую дальнюю даль? - спросил Сатана. - Для меня дали не
существует, для меня все одинаково близко. Солнце от нас на расстоянии около
ста миллионов миль, и свет, освещающий землю, дошел к нам оттуда за восемь
минут. Я же могу пройти этот путь, да и более длинный, за столь малую долю
времени, что его не уследишь на часах. Мне довольно подумать, и мой полет
совершен.
Я протянул к нему руку.
- Свет падает мне на ладонь, пусть он станет стаканом вина.
Мое желание исполнилось. Я осушил стакан.
- Разбей его, - приказал он.
Я разбил стакан.
- Ты видишь - он из стекла. Жители вашей деревни боялись дотронуться до
медных шаров, думали, что они колдовские и исчезнут как дым. Какие же
странные вы существа - род человеческий. Впрочем, довольно об этом. Я
тороплюсь. Давай-ка уложим тебя снова в постель.
Я лежал у себя в постели, Сатана исчез. Потом я услышал голос,
доносившийся откуда-то из тьмы, сквозь грохот дождя.
- Можешь сказать это Сеппи, но никому больше.
Он ответил на то, о чем я подумал.
ГЛАВА VIII
Я лежал без сна. Мысли мои были теперь не о том, что я побывал на краю
света, в Китае, и вправе посмеиваться над Бартелем Шперлингом, который,
один-единственный раз съездив в Вену, возомнил себя путешественником и
смотрел свысока на всех остальных эзельдорфских мальчишек, не повидавших,
как он, широкого мира. В другое время подобная мысль, быть может, и лишила
бы меня сна, но сейчас она меня нисколько не занимала. Я думал о Николаусе.
Все мои помыслы были о нем. Я вспоминал, сколько беззаботных деньков провели
мы с ним вместе, как мы играли и резвились в лесу, в полях, у реки в долгие
летние дни, как бегали на коньках и катались на санках зимой, убежав с
уроков. И вот он должен проститься со своей молодой жизнью. Снова наступит
лето, снова придет зима, мы, как и прежде, будем бродить по лесу, затевать
игры, а Николауса больше не будет с нами, Николауса мы не увидим. Завтра я
его встречу, он ничего не знает, он такой, как всегда, а мне уже тяжко будет
слышать, как он смеется, глядеть, как он веселится и дурачится, потому что
он для меня уже мертвец в саване, с восковыми пальцами и остекленевшим
взором. Пройдет день, он по-прежнему ни о чем не будет подозревать, потом
другой день и третий, эта ничтожная горстка дней тает и тает, а страшный
конец неуклонно близится, словно поступь судьбы. И никто не будет об этом
знать - только Сеппи да я. Двенадцать дней, только двенадцать дней! Подумать
- и то страшно. Я заметил, что даже мысленно называю его не так, как обычно
- Ник или Ники, а уважительно - Николаус, как принято называть умерших. Одну
за другой я вспомнил все ссоры, какие были у нас с ним за долгие годы
дружбы, и убедился, что почти что всегда я был неправ; я обижал его. Было
горько думать об этом, и сердце мое терзалось раскаянием, как бывает, когда
вспоминаешь, что был нехорош с человеком, которого уже нет, и уже нельзя
никакими силами хоть на минуту вернуть его к жизни и, встав на колени,
взмолиться: "Сжалься, прости меня!".
Однажды - мы были тогда девятилетними мальчуганами - торговец фруктами
послал Николауса по какому-то делу почти что за две мили от нашей деревни и
дал ему в награду большое вкусное яблоко. Я встретил Ника, когда он шел
домой с этим яблоком, сам не свой от изумления и радости. Я попросил у него
яблоко будто бы так, поглядеть, и он, не подозревая коварства, отдал мне
его. Я побежал, обгрызая яблоко на ходу, а Николаус за мной, умоляя: "Отдай
же, отдай!" Когда он догнал меня, я сунул ему огрызок и стал смеяться над
ним. Он отвернулся и пробормотал сквозь слезы, что хотел отнести яблоко
младшей сестренке. Я понял, что поступил очень дурно: сестренка его
выздоравливала после долгой болезни, и ему, конечно, хотелось сделать ей
приятный сюрприз и насладиться ее радостью. Но я стыдился признать, что
поступил дурно, и вместо того, чтобы попросить прощения у Николауса, я
сказал ему что-то обидное, грубое, хотел показать свое молодечество.
Николаус ничего не ответил, но когда он повернул к дому, я увидел по
выражению его лица, как мучительно он страдает. Много раз по ночам вставало
передо мной это страдальческое лицо, и я испытывал стыд и раскаяние.
Постепенно воспоминание слабело, потом исчезло совсем, но сейчас оно снова
владело мной и терзало меня.
Другой раз, это было уже в школе и нам было по одиннадцати лет, я
опрокинул чернильницу и залил четыре тетради. Мне грозила порка. Но я ловко
свалил все на Николауса, и суровое наказание досталось ему.
И, наконец, совсем недавно, в прошлом году, я обманул его, когда мы
менялись крючками для удочки. Я всучил ему крупный крючок с надломом, а взял
три поменьше, маленьких, совсем еще новых. Крючок у него сломался в первый
же раз, как он вытащил рыбу, но он не подозревал, что я обманул его, и,
когда я решил со стыда вернуть ему один из его крючков, он не захотел его
брать и сказал:
- Мена есть мена. Кто же тут виноват, если крючок сломался.
Да, сон не шел. Воспоминание об этих трех мелких подлостях не покидало
меня, и думать о них было много больнее, чем обычно, когда речь идет о живых
людях. Николаус был еще жив, но для меня он был мертвым. Ветер стонал в
деревянных ставнях, дождь барабанил в стекла...
Утром я нашел Сеппи и рассказал ему обо всем. Мы стояли на берегу реки.
Сеппи сильно переменился в лице, губы его дрогнули, но он ничего не сказал;
мои слова словно оглушили его. Так он стоял и молчал, потом слезы брызнули у
него из глаз, и он отвернулся. Я взял его крепко под руку, и мы пошли
вместе, думая об одном и том же, не говоря ни слова. Пройдя мост, мы
спустились в долину, потом поднялись на лесистый холм, и только там обрели
дар речи. Мы говорили о Николаусе и вспоминали всю нашу дружбу. Сеппи не
переставая твердил, словно говоря сам с собой:
- Двенадцать дней! Меньше двенадцати дней!
Мы решили, что все оставшееся время будем проводить с Николаусом. Мы
должны насладиться его дружбой, каждый час был на счету. Но сейчас у нас не
хватало духу пойти к нему. Нам было жутко; ведь это - почти все равно, что
встретиться с мертвецом. Сказать это вслух мы не решались, но думали именно
так. Поэтому мы оба вздрогнули, когда за поворотом дороги столкнулись лицом
к лицу с Николаусом. Он весело крикнул:
- Ну-ну! Что это у вас такие кислые лица? Уж не повстречали ли вы
привидение?
Мы не могли вымолвить ни слова в ответ, но, к счастью, этого и не
требовалось. Николаус был готов говорить за троих. Он только что виделся с
Сатаной, и все еще ликовал после беседы с ним. Сатана рассказал ему о нашем
полете в Китай. Николаус попросил взять и его в какое-нибудь путешествие, и
Сатана обещал ему, сказал, что возьмет его в дальнее путешествие,
увлекательное и прекрасное. Николаус просил его, чтобы он взял и нас двоих,
но Сатана сказал, что сейчас невозможно; а придет наше время, отправимся и
мы путешествовать. Сатана обещал прийти за ним точно тринадцатого числа, и
Николаус с нетерпением считал оставшиеся часы. Тринадцатое было то самое
роковое число, и мы тоже считали оставшиеся часы. Мы прошагали в тот день
втроем не одну милю, выбирая излюбленные тропинки, знакомые нам еще с
детства, и все время напоминая друг другу то один, то другой интересный
случай из нашей дружбы. Веселился, впрочем, один Николаус; мы с Сеппи ни на
минуту не могли позабыть мучившую нас страшную тайну. Мы старались
обходиться с нашим другом как можно внимательнее и бережнее, старались
показать ему, как мы любим его, и ему это было очень приятно. Мы все время
старались оказать ему какую-нибудь услугу, хоть маленькое одолжение, и это
тоже его радовало. Я отдал ему семь рыболовных крючков, все мое достояние, и
уговорил его принять их в подарок, а Сеппи подарил ему новенький перочинный
нож и желто-красный волчок. (Сеппи признался мне после, что недавно надул
Николауса при обмене и теперь хотел чем-нибудь искупить вину, хоть Николаус
и не помнил зла.) Сейчас он наслаждался нашим вниманием и был счастлив, что
у него такие друзья. Его нежность к нам и его благодарность заставляли
страдать нас, мы чувствовали себя недостойными его дружбы. Расставаясь с
нами, Николаус сиял от восторга и говорил, что еще никогда в жизни не был
так счастлив.
По дороге домой Сеппи сказал мне:
- Мы всегда любили Николауса, но разве мы дорожили им так, как сейчас,
когда теряем его?
На другой и на третий день мы старались проводить все свободное время с
Николаусом. Чтобы побольше побыть вместе, мы трое всеми правдами и
неправдами увиливали от наших домашних обязанностей. Наши родители бранили
нас и грозились, что нас накажут. Просыпаясь каждое утро, мы с Сеппи дрожали
от ужаса и твердили: "Осталось всего десять дней. Всего девять дней. Восемь
дней. Семь". Дни бежали один за другим, а Николаус был беспечен и весел и не
мог понять, почему мы грустим.
Он пускался на всевозможные выдумки, чтобы развлечь нас, но большого
успеха они не имели. Наша веселость была принужденной, наш смех замирал,
словно что-то глушило его изнутри, и переходил в печальные вздохи. Тогда он
стал расспрашивать нас, почему мы грустны, говорил, что хотел бы помочь нам
или хотя бы облегчить наше горе своим участием, и нам приходилось лгать,
чтобы успокоить его.
А больше всего нас ужасало, когда Николаус назначал что-нибудь вперед,
переступая в своих планах роковое тринадцатое число. Всякий раз при этом мы
внутренне содрогались. Он не терял надежды развлечь нас и вывести из уныния,
и наконец, когда ему оставалось жить только три дня, он сказал нам смеясь,
что придумал отличную штуку. На четырнадцатое он назначает пикник и танцы
для девочек и мальчишек всей нашей деревни на том самом месте в лесу, где мы
повстречали в первый раз Сатану. Мы слушали нашего друга в отчаянии. Ведь
четырнадцатого его должны хоронить! Сказать, что мы несогласны, было нельзя.
Он, конечно, захочет узнать почему мы несогласны, а мы ничего не сумеем
ответить. Он попросил нас помочь ему известить всех гостей, и мы согласились
- разве можно отказать в чем-нибудь умирающему товарищу! Но это было ужасно,
ведь мы приглашали гостей на его похороны!
Какими страшными были эти одиннадцать дней! Но сейчас, когда меня
отделяет от них целая жизнь, я вспоминаю то время с благодарностью и
умилением. Ведь это были дни близости с ушедшим от нас другом, и с той поры
я уже никогда не знал дружбы, которая была бы такой тесной и нежной. Мы
считали каждый час и минуту ускользающего от нас времени и цеплялись за них
с той страстью отчаяния, какую испытывает скупец, когда разбойники расхищают
дукат за дукатом его богатство, а он не в силах им помешать.
В последний вечер мы задержались дольше обыкновенного. Вина была наша,
мы медлили расстаться с Николаусом, и когда, наконец, простились с ним у
дверей его дома, час был уже поздний. Мы помешкали чуть у двери, когда он
ушел, и услышали то, чего опасались. Отец Николауса, уже не раз грозивший
ему наказанием, жестоко побил его, и мы услышали, как Николаус заплакал. Мы
пошли домой с печалью в душе, сокрушаясь, что это случилось по нашей вине.
Мы жалели не только одного Николауса, жалели и его отца. Мы думали: "Если бы
он знал... если бы только знал..."
Утром Николаус не пришел на наше обычное место, и мы поспешили к нему,
чтобы узнать, почему.
Его мать сказала:
- Отец потерял терпение, говорит, что хватит с него. Когда Ники не
кликнешь, его нет дома, а потом выясняется, что он где-то гуляет с вами.
Вчера вечером отец отлупил его. Я жалею Ники и много раз спасала его от
порки, но на этот раз промолчала, потому что сама на него тоже сердилась.
- Ах, если бы вы заступились за Ники! - сказал я дрожащим голосом. -
Может быть, это послужило бы вам утешением.
Мать Николауса гладила белье утюгом и стояла спиной к нам. Тотчас она
обернулась с удивленным и обеспокоенным видом:
- Что это ты говоришь?
Я был застигнут врасплох. Она продолжала глядеть на меня в упор, а я
все не знал, как объяснить ей мои слова. Мне на выручку пришел находчивый
Сеппи:
- Конечно, вам было бы приятно вспомнить об этом. Вчера как раз
Николаус рассказывал нам, как вы всегда за него заступаетесь, - вот мы и
позадержались. Он говорил, что отцу никогда не удастся его отлупить, пока вы
стоите рядом. Он так интересно об этом рассказывал, а мы так внимательно
слушали, что совсем позабыли про поздний час.
- Значит, он вам об этом рассказывал, правда? - спросила она, вытирая
глаза уголком фартука.
- Спросите хоть Теодора, он вам подтвердит.
- Мой Ники хороший, добрый мальчик, - сказала она. - Ах, зачем я дала
отцу высечь его. Никогда не позволю больше. Подумать только, я-то сержусь и
браню его, а он весь вечер расхваливает меня перед своими друзьями. Боже
мой, если бы знать все заранее! Тогда мы не ошибались бы так, а то бродим
впотьмах и спотыкаемся, словно скоты неразумные. Теперь я уже никогда не
смогу вспоминать этот вечер без сердечной боли.
Она была точно такая же, как и все остальные. В эти несчастные дни
никто не мог рта раскрыть, чтобы не выпалить что-нибудь, от чего нас
охватывал трепет. Да они все "бродили впотьмах" и не понимали к тому же,
какие грустные истины они изрекали.
Сеппи спросил, нельзя ли Николаусу пойти погулять с нами.
- К сожалению, нет, - отвечала она. - Отец велел подержать его
взаперти, чтобы он сильнее почувствовал, что наказан.
Мы переглянулись. Это был шанс на спасение. Если Николауса не выпустят
из дома, он не утонет. Для верности Сеппи спросил:
- Он просидит взаперти только утро, сударыня, или весь день до вечера?
- Весь день... По правде сказать, обидно, погода такая хорошая. И ему
непривычно сидеть взаперти. Но он там готовится к пикнику, и это его
развлечет. Надеюсь, что он не очень будет скучать.
Что-то в ее лице придало Сеппи отваги, и он спросил, нельзя ли нам
подняться наверх к Николаусу и составить ему компанию.
- Вот и молодцы! - сказала она сердечно. - Вы настоящие друзья, если
готовы отказаться ради него от веселой прогулки. Хоть иной раз я вас и
браню, мальчики, но сердце у вас доброе. Возьмите по пирожку, а этот отдайте
Ники, скажите: мама прислала.
Первое, что бросилось нам в глаза, когда мы вошли в комнату Николауса,
были стенные часы. Они показывали без четверти десять. Возможно ли, что ему
оставалось так мало жить? Сердце у меня сжалось. Николаус подпрыгнул от
радости и кинулся обнимать нас. Он не скучал, готовился к пикнику и был
отлично настроен.
- Садитесь, - сказал он, - я вам кое-что покажу. Я смастерил змея, вы
просто ахнете. Он сушится у мамы на кухне. Сейчас притащу.
На столе у него были расставлены всякие заманчивые вещички. Это были
призы, которые Николаус приготовил для пикника. На покупку их он потратил
все, что сберег в копилке. Уходя, он сказал:
- Вот, полюбуйтесь, а я схожу вниз. Хочу попросить маму прогладить
змея, чтобы он поскорее высох.
Он выскочил и, насвистывая, побежал вниз по лестнице.
Мы не стали любоваться призами. Нас ничто не занимало сейчас, кроме
стрелок на циферблате. Молча мы вслушивались в ход настенных часов, и каждый
раз, как минутная стрелка передвигалась на деление вперед, мы согласно
кивали: миновала еще минута в состязании жизни со смертью. Глубоко вздохнув,
Сеппи сказал:
- До десяти две минуты. Через семь минут, Теодор, смерть останется
позади. Он будет спасен. Он...
- Тсс! Я как на иголках. Гляди и молчи.
Прошло пять минут. Мы задыхались от волнения и страха. Еще три минуты.
На лестнице послышались чьи-то шаги.
- Он спасен!
Мы вскочили и ринулись к двери.
Вошла мать Николауса со змеем в руках.
- Вот это так змей! - сказала она. - А сколько он потрудился над ним!
Начал еще на рассвете, а кончил перед вашим приходом.
Она прислонила змея к стене и чуточку отступила, чтобы лучше его
рассмотреть.
- Ники сам его расписал, и я бы сказала - на славу. Церковь, правда, не
очень похожа, но взгляните на мост, каждый скажет, что это наш мост. Он
велел принести змея сюда. Боже мой, семь минут одиннадцатого, а я-то здесь с
вами!
- Где он?
- Сейчас вернется. Выбежал на минутку.
- Выбежал на минутку?!
- Да. К нам зашла мать маленькой Лизы и говорит, что ее дочурка куда-то
пропала и она сильно волнуется. Я и говорю Николаусу: "Хоть отец и запретил
тебе выходить из дому, сбегай, поищи Лизу..." Да что это с вами, почему вы
такие бледные? Вы оба больны, наверно. Сядьте, я сейчас принесу вам
лекарство. Это от пирожков. Тесто было тяжеловато, но я думала, что...
Она исчезла, не кончив фразы, а мы ринулись оба к окну, которое
выходило на реку. На дальнем конце моста стояла толпа, народ сбегался со
всех сторон.
- Все кончено! Бедный наш Николаус! Ах, зачем она выпустила его из
дому!
- Уйдем, - сказал Сеппи, подавляя рыдания. - Скорее уйдем, я не в силах
видеть ее. Сейчас она все узнает.
Но уйти нам не удалось. Когда мы сбегали с лестницы, мать Николауса
встретила нас с пузырьком в руках и заставила сесть и принять лекарство.
Потом захотела проверить, помогли ли нам ее капли. Убедившись, что с нами
все то же, она запретила нам уходить, а сама все бранила себя, что угостила
нас пирожками.
Наконец настал миг, которого мы страшились. За дверью послышался шум и
топот, и люди с обнаженными головами торжественно внесли в дом и положили на
кровать два бесчувственных тела.
- О господи! - вскричала несчастная мать. Упав на колени, она обняла
своего мертвого сына и стала осыпать его поцелуями. - Это я... Я виновата во
всем, я погубила его! Если бы я не сняла запрет и не выпустила его, с ним бы
этого не случилось. Я наказана по заслугам, я жестоко поступила вчера, когда
он просил меня, свою мать, за него заступиться.
продолжение >>>
1 , 2 , 3
|